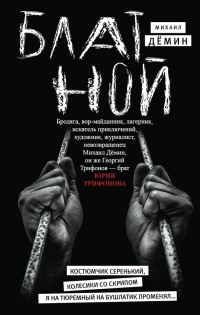Книга Три девушки в ярости - Изабель Пандазопулос
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я знаю, что потом придётся выйти в центр школьного двора, встать на возвышение и сказать, что я сама осуждаю своё поведение. Я убеждаю себя, что так нужно. Вся школа здесь. Препы, начальники и уполномоченные от Партии по делам молодёжи. Пока я иду к возвышению, я уже убедила себя, что сейчас попрошу прощения. Так лучше для меня. Для моего будущего. Я сделаю это. Легко. Но стоит мне раскрыть рот, и я поступаю наоборот. Я говорю правду. Я провинилась. У меня отбирают право учиться. Но мне не жалко. Я об этом знаю. Ещё и сейчас, когда пишу тебе это, во мне живёт стремление поступить по справедливости. Нет ничего хуже, чем потерять достоинство. Как тогда смотреть на себя в зеркало?
Дома я воображаю, как, должно быть, все на меня рассердились.
Итак, сама видишь, что, если надо, я найду способ приехать к тебе в Париж. Не знаю, удастся ли мне… но мне теплее, даже когда я просто пишу тебе это.
Обнимаю тебя, дорогая моя Сюзанна. Когда мне грустно, я думаю о тебе, и это всё равно что знать: убежища — да, они есть.
P. S. То самое «нечто», о котором я должна тебе рассказать и что меня так тяготит, у меня не написалось в этом письме. Я скажу тебе лично, когда мы встретимся этим летом. Обещано!
Ильза Лаваголейн — депутату Люсьену Нойвирту[14]
Месье депутат!
Я восхищаюсь тем, как вы боретесь за продвижение законопроекта, разрешающего во Франции применение противозачаточных средств. Я даже никогда вообразить себе не могла таких бредовых возражений против него, как обвинения в порнографии или страх увидеть Францию жертвой «вспышки эротизма». Меня удручает исступлённость этих голосов, их вульгарность напоказ, их лозунги и вообще то, как депутаты нашего Национального собрания, по их мнению, должны относиться к женщине. Ещё больше удручает меня ярость католической церкви и та непримиримая энергия, какую проявляют священники, стремясь просто помешать даже постановке и обсуждению этого вопроса мало-мальски прилично и спокойно.
Но чего же все эти люди так страшатся?
Эти слова, эти истерические позы, эти разглагольствования причиняют мне боль не только как женщине, но и, разумеется, как матери. Уже в который раз я втайне радуюсь вашим упорству и терпению в защите нашей судьбы. Спасибо за эту битву от нашего имени и во имя нас, женщин, ибо у нас больше нет представительского места в палате депутатов, как не имеем мы его и на площадках общественного обсуждения и в собственных семьях. Ваша непоколебимая убеждённость только прибавляет уважения к вам.
Мне невыносимо более это стремление контролировать и держать женские тела в плену моральных принципов, свалившихся на нас неизвестно откуда и якобы неопровержимых. Мне более невыносимо чувствовать себя обречённой на этот природный детерминизм.
Меня настигла тяжёлая депрессия после рождения моего сына, которого я не хотела иметь и так и не смогла полюбить. Мне становится лучше. Но из-за этого я едва не отправилась на тот свет.
Вы придаёте мне сил опять вернуться к жизни.
С большим уважением,
Магда — Дитеру
Берлин,
4 апреля 1967
Дитер, сколько раз я уже начинала писать ответ на твои письма. И всегда бросала. В последнем ты угрожаешь мне «раскрыть всё, что было». И вот тут уж ответить тебе необходимо.
Это будет моим единственным письмом к тебе, Дитер. И никакие угрозы ничего тут не изменят. Наша переписка — дело столь же невозможное, каким была когда-то и наша связь. Мы кузены. То, что мы совершили, делать не надо. И я уж думала, что ты с этим согласился.
Возвращение в Берлин было для меня способом перевернуть страницу. Я хотела забыть то, что с нами случилось. И мне хотелось бы, чтобы забыл и ты. Быть может, разделяющее нас расстояние позволяет мне осознать всё безумие произошедшего с нами острее, чем тебе. Не знаю. Но, скажу уж совсем чистосердечно, я стыжусь самой себя каждый раз, когда об этом думаю. Стыжусь до глубокого отвращения к себе. А самое худшее — в том, что я так поступила под кровом людей, приютивших меня, и вот их-то я и предала.
Эти слова вызовут у тебя раздражение. Представляю, в какую ярость ты придёшь, читая это письмо. Но истина — вот она: нашу связь я пережила как тюрьму. Нет, я никогда не любила тебя.
Тогда зачем же я позволила втянуть себя в это безумие так надолго?
Я не знаю.
Три раза я начинала писать это письмо. Я взвешиваю каждое обращённое к тебе слово, но то, что я стараюсь понять, пониманию не поддаётся. Это невозможно рассмотреть на расстоянии. Всё снова путается. Я уже не сознаю, что на самом деле думаю, а того меньше — верно ли то, что я говорю. Всё сбивается, становится смутным, когда я с тобой.
Это чувство — оно возникло у меня мгновенно, в первый же раз, на том концерте на площади Насьон. Скажу между нами — сперва было так легко, так радостно. Когда Сюзанна повела нас на этот концерт, разве ты уже собирался меня соблазнять? Помню, как мы слушали радио. И тут объявили, что сейчас споёт Джонни Холлидей! И как мы все трое радостно возбудились при одной мысли, что будем петь и плясать под открытым небом, прямо на улице, в парижской ночи.
Тебе тогда уже было 17 лет, а нам — неполных 14. Как всё это сейчас от меня далеко…
Максим торжественно поручил тебе быть нашим защитником. Случайно ли ты обнял меня, или я сразу угодила в ловушку, давно тобой задуманную? Я уверена лишь в одном: в том, что произошло, не было моего решения, это произошло как будто без меня самой. Я долго убеждала себя, что это всё из-за того слегка сумасшедшего празднества. Радость, охватившая тогда всех поголовно и одновременно, и эта музыка, и вдруг ощущение свободы, и это было начало лета и начало жизни, и какой-то взрыв удовольствия. Не будь всего этого, да разве посмели бы мы обнимать друг друга так крепко прямо в толпе и целоваться?
Как стыдно, Дитер, с того самого первого вечера, и этот стыд никогда не покинет нас, ты сам признаёшь это, правда?